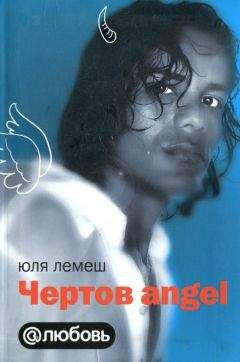Армандо Перес - О чем молчат мужчины… когда ты рядом
Мой первый порыв – все отрицать. Потом думаю: к черту! Если хочет, пусть ест, что есть. В конце концов, даже если и так? Какое право она имеет указывать, чем мне заниматься, а чем нет?
Тем более что я занимался этим ради дела.
– Да, я тоже подрабатываю эскортом, – говорю я. – И что с того? Почему тебя это так бесит?
– Значит, поэтому ты был на свадьбе в Сиене с той женщиной?
– Да, поэтому. И, признаюсь, в тот раз я впервые повел себя так непрофессионально.
Она краснеет:
– Ты имеешь в виду… там, в столовой?
– Я имею в виду, что мы с тобой трахались, а брошенная мной несчастная Камилла Мантовани была вынуждена заканчивать вечеринку в одиночестве. И ты станешь утверждать, что, будучи с тобой, я думал о своей выгоде?
– А-а, ну конечно, будучи со мной, ты же потерял деньги. – Ее губы кривятся в презрительной гримасе.
В моей системе оценок таких категорий, как правильно-неправильно, не существует.
Трясущимися руками она достает из кармана бумажник, вынимает банкноту в сто евро и, морщась от отвращения, протягивает ее мне:
– Держи. Надеюсь, этого хватит, чтобы компенсировать тебе потерю заработка. Нет, я не строю иллюзий, вряд ли этого достаточно за полный набор твоих услуг… Представляю, чем ты услужаешь своим клиенткам, чтобы закрепить их за собой!
Я молчу, сжав зубы. В таком состоянии она вряд ли способна выслушать мои объяснения, и все может закончиться тем, что я тоже взорвусь. Что она себе позволяет? Никогда не думал, что она может выглядеть такой жалкой и такой неумной. Эскорт – профессия, как все прочие, которые строятся на основе четких договорных отношений. В моей системе оценок таких категорий, как правильно-неправильно, не существует. Скорее всего, это реакция Мануэлы на мой разрыв с ней, ставший фактом на вчерашней вечеринке, чем проявление ее нравственного ригоризма.
Видя, что я не отвечаю, она, явно разочарованная, поворачивается, чтобы уйти. Но, сделав шаг, останавливается, снова подходит ко мне и, уткнув палец мне в грудь, говорит:
– И вот еще что, мой прекрасный скульптор. Держись подальше от Евы. Ты меня понял? Она чистая девушка. И не пытайся лезть в ее жизнь и превращать ее в шлюху… Пардон, в жиголо!
Нанеся этот последний удар, она, резко крутанувшись на каблуках, уходит. В окне кафе я вижу физиономию Антонио, который наслаждается этой сценой. Его взгляд останавливается на стоевровой купюре, намокающей у моих ног.
– И вот еще что, мой прекрасный скульптор. Держись подальше от Евы. Ты меня понял? Она чистая девушка.
Дарю тебе эти деньги, мой друг, думаю я и, подняв воротник куртки, удаляюсь в направлении метро «Монетнаполеоне». Возьми их и вали куда подальше. Подальше от самого себя, если у тебя получится.
У меня не получается, я уже давно не испытывал такой досады на самого себя, словно от меня ускользнуло что-то важное.
Я спускаюсь в метро, и опять в моих ушах голос Мануэлы, полный злости и презрения, точно такой же, каким она говорила о женоненавистнике Антонио: «Не пытайся лезть в ее жизнь…»
Успокойся, я вовсе не намерен. Или же все-таки намерен?
Глава 20
– Можно войти? – слышится с порога голос Евы.
– Входи-входи, – приглашаю я, не отрывая глаз от обломка аканы, который внимательно изучаю в поисках дефектов.
Это самый крупный и самый красивый кусок дерева из всех, что у меня есть. Чуть больше пятидесяти сантиметров в высоту и двадцати в диаметре. Вероятно, деталь архитрава.
– Что ты делаешь?
Я слышу, как она идет ко мне, ее шаги отдаются странным тикающим звуком. Поднимаю голову, и, поскольку сижу на полу, первое, что бросается мне в глаза, – ее изящные пальцы, сжатые босоножками, сделанными практически из ничего: три тонких полоски красной кожи и десять сантиметров каблуков-шпилек. Ногти покрыты карминным лаком, такое я вижу впервые, с тех пор как с ней познакомился. Прохожусь взглядом по ногам, от лодыжек до того места, где намного выше колен начинается подол легкого красного платья на узких бретельках. Низ и верх его расписаны странными фуксиями, напоминающими какие-то хищные растения.
– Мадре де Диос! Ты прекрасно выглядишь! – Я встречаюсь с ее устремленным на меня взглядом.
Глаза Евы сияют, выражение лица, может быть, впервые лишено неприязни.
Глаза Евы сияют, выражение лица, может быть, впервые лишено неприязни.
– Чем ты занимаешься? – повторяет она вопрос, с любопытством разглядывая валяющиеся вокруг меня куски дерева разных цветов и разного размера, от здоровенных чурбаков до небольших обрубков.
Она нагибается ко мне, и от запаха ее кожи у меня моментально идет кругом голова.
– Выбираю материал. Для скульптуры или, может быть, барельефа, пока не знаю.
Я протягиваю ей обломок аканы, который до сих пор держу в руке. Она гладит его ладошкой и с изумлением произносит:
– Какое оно теплое!
– Потому что оно заряжено энергией, – объясняю я. – Это очень старое дерево, даже, лучше сказать, древнее.
– Где ты его нашел?
– На Кубе, как все это, – отвечаю я, показывая на деревяшки, разбросанные по полу.
Чуть в стороне валяется джутовый мешок, в котором я их храню.
– Я привез все это, когда последний раз ездил на Кубу. Гавана – одна большая стройка. Там иногда рушатся какие-нибудь брошенные старинные дома.
– То есть как рушатся?
– Очень просто, вот так. – Я провожу рукой сверху вниз, показывая как. – Рушатся. А ты на другом конце города слышишь грохот и понимаешь, что город потерял еще одно древнее здание. И, гуляя по городу, часто случается набрести на груду мусора, готового к вывозу. Среди этого мусора тебя могут ждать неожиданные сюрпризы…
– Это относится не только к стройкам Гаваны, – перебивает она меня.
– Разумеется. Подобное я встречал не только там, – соглашаюсь я спокойно.
Сейчас, когда рядом Ева, мне не хочется думать о Кубе. Я переключаю ее внимание на мои деревяшки:
– Как ты видишь, из всего, что выбрасывали на помойку: старинную мебель, каминные порталы с тончайшей резьбой, некие предметы антиквариата, я выбирал только их деревянные части. Потому что дерево – материал, который содержит в себе историю, а история этих домов насчитывает много веков.
Не отрывая своего взгляда от моего, она поднимает руки, стягивает вниз бретельки платья. Оно падает к ее ногам.
– Значит, тебя можно назвать своеобразным спасителем истории, – негромко произносит Ева, не переставая гладить кусок аканы. – А этот? Что может помнить этот обломок?
– Мне не дано это знать, – отвечаю я с легкой улыбкой. – Мне только известно, что акана – очень редкое дерево, которое растет исключительно на Кубе. Вероятно, это деталь несущей балки какого-то колониального здания, построенного, думаю, в веке семнадцатом.